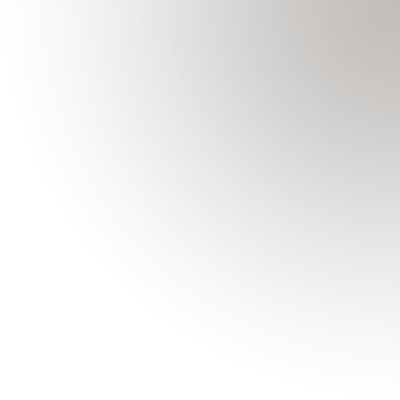ГЛАВА 8
Родился мальчик в дни войны,
Да не в отцовском доме, –
Под шум чужой морской волны
В бараке на соломе.
Еще он в мире не успел
Наделать шуму даже,
Он вскрикнуть только что посмел
И был уже под стражей.
Уже в числе всех прочих он
Был там, на всякий случай,
Стеной‑забором огражден
И проволокой колючей.
И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.
Родился мальчик, брат меньшой
Троих детей крестьянки,
И подают его родной
В подаренной портянке.
И он к груди ее прирос –
Беда в придачу к бедам,
И вкус ее соленых слез
Он с молоком отведал.
И начал жить, пока живой,
Жилец тюрьмы с рожденья.
Чужое море за стеной
Ворочало каменья.
Свирепый ветер по ночам
Со свистом рвался в щели,
В худую крышу дождь стучал,
Как в полог колыбели.
И мать в кругу птенцов своих
Тепло, что с нею было,
Теперь уже не на троих,
На четверых делила.
В сыром тряпье лежала мать,
Своим дыханьем грея
Сынка, что думала назвать
Андреем – в честь Андрея,
Отцовским именем родным.
И в каторжные ночи
Не пела – думала над ним:
– Сынок, родной сыночек.
Зачем ты, горестный такой,
Слеза моя, росиночка,
На свет явился в час лихой,
Краса моя, кровиночка?
Зачем в такой недобрый срок
Зазеленела веточка?
Зачем случился ты, сынок,
Моя родная деточка?
Зачем ты тянешься к груди
Озябшими ручонками,
Не чуя горя впереди,
В тряпье сучишь ножонками?
Живым родился ты на свет,
А в мире зло несытое.
Живым – беда, а мертвым – нет,
У смерти под защитою.
Целуя зябкий кулачок,
На сына мать глядела:
– А я при чем, – скажи, сынок, –
А мне какое дело?
Скажи: какое дело мне,
Что ты в беде, родная?
Ни о беде, ни о войне,
Ни о родимой стороне,
Ни о немецкой чужине
Я, мама, знать не знаю.
Зачем мне знать, что белый свет
Для жизни годен мало?
Ни до чего мне дела нет,
Я жить хочу сначала.
Я жить хочу, и пить, и есть,
Хочу тепла и света,
И дела нету мне, что здесь
У вас зима, не лето.
И дела нету мне, что здесь
Шумит чужое море
И что на свете только есть
Большое, злое горе.
Я мал, я слаб, я свежесть дня
Твоею кожей чую,
Дай ветру дунуть на меня –
И руки развяжу я.
Но ты не дашь ему подуть,
Не дашь, моя родная,
Пока твоя вздыхает грудь,
Пока сама живая.
И пусть не лето, а зима,
И ветошь греет слабо,
Со мной ты выживешь сама,
Где выжить не могла бы.
И пусть ползет сырой туман
И ветер дует в щели,
Я буду жить, ведь я так мал,
Я теплюсь еле‑еле.
Я мал, я слаб, я нем, и глуп,
И в мире беззащитен;
Но этот мир мне все же люб –
Затем, что я в нем житель.
Я сплю крючком, ни встать, ни сесть
Еще не в силах, пленник,
И не лежал раскрытый весь
Я на твоих коленях.
Я на полу не двигал стул,
Шагая вслед неловко,
Я одуванчику не сдул
Пушистую головку.
Я на крыльцо не выползал
Через порог упрямый,
И даже «мама» не сказал,
Чтоб ты слыхала, мама.
Но разве знает кто‑нибудь,
Когда родятся дети,
Какой большой иль малый путь
Им предстоит на свете?
Быть может, счастьем был бы я
Твоим, твой горький, лишний, –
Ведь все большие сыновья
Из маленьких повышли.
Быть может, с ними белый свет
Меня поставит вровень.
А нет, родимая, ну, нет, –
Не я же в том виновен,
Что жить хочу, хочу отца
Признать, обнять на воле.
Ведь я же весь в него с лица –
За то и люб до боли.
Тебе приметы дороги,
Что никому не зримы.
Не дай меня, побереги…
– Не дам, не дам, родимый.
Не дам, не дам, уберегу
И заслоню собою,
Покуда чувствовать могу,
Что ты вот здесь, со мною.
…И мальчик жил, со всех сторон
В тюрьме на всякий случай
Стеной‑забором огражден
И проволокой колючей.
И часовые у ворот
Стояли постоянно,
И счетверенный пулемет
На вышке деревянной.
И люди знали: мальчик им –
Ровня в беде недетской.
Он виноват, как все, одним:
Что крови не немецкой.
И по утрам, слыхала мать,
Являлся Однорукий,
Кто жив, кто помер, проверять
По правилам науки.
Вдоль по бараку взад‑вперед
С немецким табелем пройдет:
Кто умер – ставит галочку,
Кто жив – тому лишь палочку.
И ровным голосом своим,
Ни на кого не глядя,
Убрать покойников – живым
Велит порядка ради.
И мальчик жил. Должно быть, он
Недаром по природе
Был русской женщиной рожден,
Возросшей на свободе.
Должно быть, он среди больших
И маленьких в чужбине
Был по крови крепыш мужик,
Под стать отцу – мужчине.
Он жил да жил. И всем вокруг
Он был в судьбе кромешной
Ровня в беде, тюремный друг,
Был свой – страдалец здешний.
И чья‑то добрая рука
В постель совала маме
У потайного камелька
В золе нагретый камень.
И чья‑то добрая рука
В жестянке воду грела,
Чтоб мать для сына молока
В груди собрать сумела.
Старик поблизости лежал
В заветной телогрейке
И, умирая, завещал
Ее мальцу, Андрейке.
Из новоприбывших иной –
Гостинцем не погребуй –
Делился с пленною семьей
Последней крошкой хлеба.
И так, порой полумертвы,
У смерти на примете,
Все ж дотянули до травы
Живые мать и дети.
Прошел вдоль моря вешний гром
По хвойным перелескам.
И очутились всем двором
На хуторе немецком.
Хозяин был ни добр, ни зол, –
Ему убраться с полем.
А тут работницу нашел –
Везет за двух, – доволен.
Харчи к столу отвесил ей
По их немецкой норме,
А что касается детей, –
То он рабочих кормит.
А мать родную не учить,
Как на куски кусок делить,
Какой кусок ни скудный,
Какой дележ ни трудный.
И не в новинку день‑деньской,
Не привыкать солдатке
Копать лопатою мужской
Да бабьей силой грядки.
Но хоть земля – везде земля,
А как‑то по‑другому
Чужие пахнут тополя
И прелая солома.
И хоть весна – везде весна,
А жутко вдруг и странно:
В Восточной Пруссии она
С детьми, Сивцова Анна.
Журчал по‑своему ручей
В чужих полях нелюбых,
И солона казалась ей
Вода в бетонных трубах.
И на чужом большом дворе
Под кровлей черепичной
Петух, казалось, на заре
Горланит непривычно.
Но там, в чужбине, выждав срок,
Где что – не разбирая, –
Малютка вылез за порог
Хозяйского сарая.
И дочка старшая в дому,
Кому меньшого нянчить,
Нашла в Германии ему
Пушистый одуванчик.
И слабый мальчик долго дул,
Дышал на ту головку.
И двигал ящик, точно стул,
В ходьбе ловя сноровку.
И, засмотревшись на дворе,
Едва не рухнул в яму.
И все пришло к своей поре,
Впервые молвил:
– Мама.
И мать зажмурилась от слез,
От счастья и от боли,
Что это слово произнес
Ее меньшой в неволе…
Покоса раннего пора
За дальними пределами
Пришла. Запахли клевера,
Ромашки, кашки белые.
И эта памятная смесь
Цветов поры любимой
Была для сердца точно весть
Со стороны родимой.
И этих запахов тоска
В тот чуждый край далекий
Как будто шла издалека –
Издалека с востока.
И мать с детьми могла тогда
Подчас поверить в чудо:
– Вот наш отец придет сюда
И нас возьмет отсюда.
Могло пригрезиться самой
В надежде и тревоге,
Как будто он спешит домой
Да припоздал в дороге.
А на недальнем рубеже,
У той границы где‑то,
Война в четвертое уже
Свое вступала лето.
И по дорогам фронтовым
Мы на дощечках сами
Себе самим,
Кто был живым,
Как заповедь писали:
Не пощади
Врага в бою,
Освободи
Семью
Свою.
|